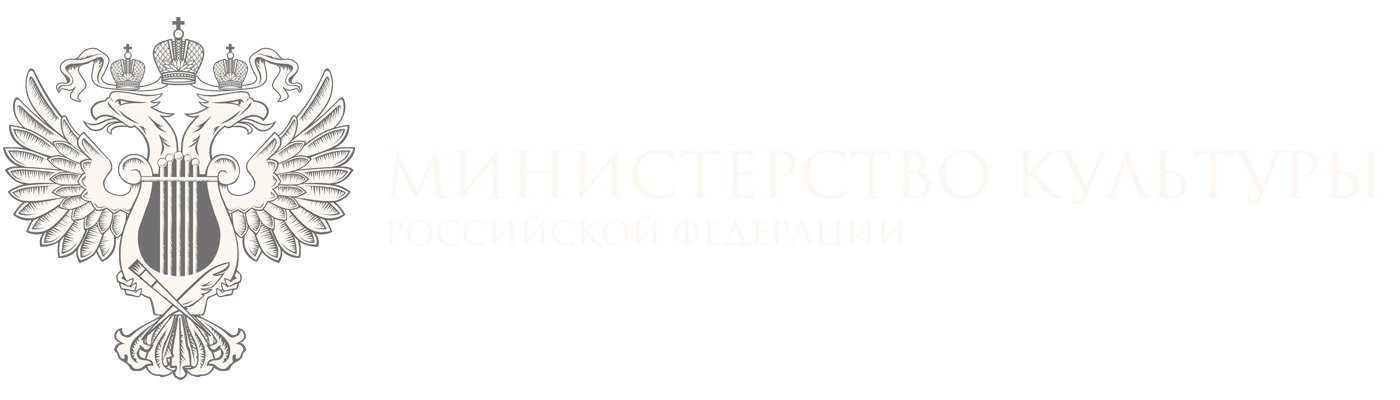ЗВУК. ЧИСЛО. ОБРЯД
МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ | МАСМ
12 АПРЕЛЯ
19:00
ПРОГРАММА
I отделение
Арво Пярт (р. 1935)
«Trivium» для органа (1976)
Переложение для баяна Иосифа Пурица
Дмитрий Смирнов (1948−2020)
«Abel» («Авель», «Картина Блейка III») для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, соч. 65 (1991)
Тристан Мюрай (р. 1947)
«La Barque mystique» («Мистическая лодка») для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели (1993)
«Trivium» для органа (1976)
Переложение для баяна Иосифа Пурица
Дмитрий Смирнов (1948−2020)
«Abel» («Авель», «Картина Блейка III») для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, соч. 65 (1991)
Тристан Мюрай (р. 1947)
«La Barque mystique» («Мистическая лодка») для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели (1993)
II отделение
София Губайдулина (1931−2025)
«In croce» для виолончели и органа (1979)
Авторская версия для виолончели и баяна
Джордж Крам (1929−2022)
«Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land» («Черные ангелы. 13 картин Темной Земли») для электрического струнного квартета (1970)
«In croce» для виолончели и органа (1979)
Авторская версия для виолончели и баяна
Джордж Крам (1929−2022)
«Black Angels. Thirteen Images from the Dark Land» («Черные ангелы. 13 картин Темной Земли») для электрического струнного квартета (1970)
АННОТАЦИИ
Николай Вечтомов
Пейзаж (Полнолуние)
1990
Холст, масло. 60 × 70
Коллекция Музея AZ
Пейзаж (Полнолуние)
1990
Холст, масло. 60 × 70
Коллекция Музея AZ
В связи с «Tabula rasa» Пярта композитор Георг Пелецис высказал следующую мысль: «В этом произведении как бы осуществляется извечная мечта человека (мечта Фауста) вернуть утраченную юность, не потеряв накопленного жизненного опыта». Если под юностью понимать эстетику чистого листа, призывающую начать все сначала, дабы делать только то, что имеет насущное значение, то тогда под опытом — владение всеми культурными «текстами» в истории человечества.
Сказанное можно в полной мере отнести к «Тривиуму». Оно подтверждается самой музыкой трех небольших, но монументальных вариаций на квазигригорианский кантус фирмус. Похоже, для Пярта словно не было Нового времени, не было Ренессанса, будто после школы Нотр-Дам или Ars nova сразу наступил XX век. Впереди чистый лист. Музыка еще не знает тональной гравитации или режима додекафонии, диктата тактового метра или коллизий причинно-следственной детерминированности. Сколько возможностей! Какая свобода! Но нет, выбор простоты, воля самоограничения, наконец, сама ситуация выбора — результат «пропущенных» столетий. Значит, они все-таки были. Три параметра — модальный звукоряд, структурные модели и числа — контролируют события в области контрапункта, ритма, фактуры, формы с непреложностью самовоспроизводящейся системы. Ровное, отстраненное звучание органа производит двойственное впечатление — статики континуального дления (внешне вроде бы ничего не происходит) и неустанного, деятельного бодрствования.
Как раз ко времени создания «Тривиума» относится дневниковая запись Пярта: «Форма должна создавать ощущение бесконечности… Каждое звено должно обладать своим собственным дыханием… Нельзя торопиться. Надо взвешивать каждый шаг от одной точки до другой на нотной бумаге… Качество зависит от искренности и смирения. Ни о чем другом не надо заботиться. Это и есть настоящая смелость… Чего стоит один звук, одно слово? Этот бесконечный поток, текущий мимо наших ушей, притупил наш воспринимающий аппарат. Бережно относиться к каждому звуку, слову, поступку…»
Маргарита Катунян. Новый тривий XX века: звук, число, обряд (Миф, музыка, обряд. М.: Композитор, 2007)
Сказанное можно в полной мере отнести к «Тривиуму». Оно подтверждается самой музыкой трех небольших, но монументальных вариаций на квазигригорианский кантус фирмус. Похоже, для Пярта словно не было Нового времени, не было Ренессанса, будто после школы Нотр-Дам или Ars nova сразу наступил XX век. Впереди чистый лист. Музыка еще не знает тональной гравитации или режима додекафонии, диктата тактового метра или коллизий причинно-следственной детерминированности. Сколько возможностей! Какая свобода! Но нет, выбор простоты, воля самоограничения, наконец, сама ситуация выбора — результат «пропущенных» столетий. Значит, они все-таки были. Три параметра — модальный звукоряд, структурные модели и числа — контролируют события в области контрапункта, ритма, фактуры, формы с непреложностью самовоспроизводящейся системы. Ровное, отстраненное звучание органа производит двойственное впечатление — статики континуального дления (внешне вроде бы ничего не происходит) и неустанного, деятельного бодрствования.
Как раз ко времени создания «Тривиума» относится дневниковая запись Пярта: «Форма должна создавать ощущение бесконечности… Каждое звено должно обладать своим собственным дыханием… Нельзя торопиться. Надо взвешивать каждый шаг от одной точки до другой на нотной бумаге… Качество зависит от искренности и смирения. Ни о чем другом не надо заботиться. Это и есть настоящая смелость… Чего стоит один звук, одно слово? Этот бесконечный поток, текущий мимо наших ушей, притупил наш воспринимающий аппарат. Бережно относиться к каждому звуку, слову, поступку…»
Маргарита Катунян. Новый тривий XX века: звук, число, обряд (Миф, музыка, обряд. М.: Композитор, 2007)
Дмитрий Смирнов родился в Минске в семье оперных певцов. Жил в Улан-Удэ, Фрунзе (ныне Бишкек) и Москве. Писал музыку с детских лет, учился в Московской консерватории у Николая Сидельникова, Юрия Холопова и Эдисона Денисова. Также среди его учителей Филипп Гершкович, наследник и преемник представителей Новой Венской школы. После окончания Московской консерватории в 1972 году работал во многих жанрах от оперы и симфонии до камерной, электроакустической музыки и музыки для кино. В 1990 году стал одним из организаторов Ассоциации современной музыки (АСМ-2).
Смирнов писал стихи с детских лет, в шестнадцать увлекся переводами английских поэтов, переводил также с немецкого, французского, шотландского, латинского и японского. Но главным увлечением стала поэзия Уильяма Блейка, произведения которого он перевел практически в полном объеме. Смирнов создал на сюжеты Блейка две оперы, балет, ораторию, симфонию, вокальные циклы — всего около пятидесяти сочинений. Им написана первая русскоязычная биография Блейка. Любовь к творчеству Блейка привела композитора в Великобританию, где он жил и работал с 1991 года. Работу над переводами Блейка Смирнов начал в 1967 году и продолжал более полувека.
Сергей Терентьев
Еще осенью 1989 года в Рузе Володя Тарнопольский сказал нам с Леной [Композитор Елена Фирсова, супруга Дмитрия Смирнова.], что было бы неплохо создать при Союзе композиторов объединение композиторов авангардного направления. Мы не сразу подхватили эту идею, но 23 января 1990 года в нашей квартире собралась группа композиторов в таком составе: Александр Вустин, Леонид Грабовский, Виктор Екимовский, Юрий Каспаров, Василий Лобанов, Владимир Тарнопольский, Владислав Шуть и мы с Леной. Мы наметили план нашей деятельности и выбрали своим лидером Эдисона Денисова. Это было первое заседание так называемого АСМа‑2 — новой Ассоциации современной музыки, которая существует и по сей день.
Смирнов писал стихи с детских лет, в шестнадцать увлекся переводами английских поэтов, переводил также с немецкого, французского, шотландского, латинского и японского. Но главным увлечением стала поэзия Уильяма Блейка, произведения которого он перевел практически в полном объеме. Смирнов создал на сюжеты Блейка две оперы, балет, ораторию, симфонию, вокальные циклы — всего около пятидесяти сочинений. Им написана первая русскоязычная биография Блейка. Любовь к творчеству Блейка привела композитора в Великобританию, где он жил и работал с 1991 года. Работу над переводами Блейка Смирнов начал в 1967 году и продолжал более полувека.
Сергей Терентьев
Еще осенью 1989 года в Рузе Володя Тарнопольский сказал нам с Леной [Композитор Елена Фирсова, супруга Дмитрия Смирнова.], что было бы неплохо создать при Союзе композиторов объединение композиторов авангардного направления. Мы не сразу подхватили эту идею, но 23 января 1990 года в нашей квартире собралась группа композиторов в таком составе: Александр Вустин, Леонид Грабовский, Виктор Екимовский, Юрий Каспаров, Василий Лобанов, Владимир Тарнопольский, Владислав Шуть и мы с Леной. Мы наметили план нашей деятельности и выбрали своим лидером Эдисона Денисова. Это было первое заседание так называемого АСМа‑2 — новой Ассоциации современной музыки, которая существует и по сей день.
В 1990 году важным сочинением для меня стал Первый скрипичный концерт (для скрипки и 13 струнных) op. 54, который писался без заказа и мыслился как музыкальный отклик на прекрасную акварель Блейка «Лестница Иакова». В конце того же года по заказу Лондонской симфониетты было написано другое сочинение для ансамбля из 16 исполнителей, названное «Лестница Иакова» и вдохновленное той же самой картиной Блейка — вторая часть моего воображаемого балета «Картины Блейка», начатого за пару лет до этого.
Последним сочинением, написанным на русско-советской земле, была «Песнь свободы» op. 59 (1991) — оратория на текст эпилога книги Уильяма Блейка «Бракосочетание Рая и Ада». Это был заказ Фестивального хора города Лидс, обеспечивший нам некоторую материальную поддержку на первых порах жизни в Англии.
Началась «перестройка», и нас стали пускать за границу. Я побывал в Англии, Польше, Германии, США и Южной Корее, узнавая мир, людей, наслаждаясь великолепными исполнениями своей и чужой музыки, а также непривычным ощущением свободы, но больше всего удивляясь нормальному человеческому отношению к своей персоне.
В лондонской галерее «Тэйт» или в филадельфийском Музее искусств я мог видеть картины, графические работы, рисунки и иллюстрации своего кумира Уильяма Блейка, а в Британском музее мне позволили полистать его оригинальные рукописи, книги, напечатанные и раскрашенные им вручную. Бродя по улицам Лондона, я находил места, где стояли дома, в которых он родился или жил, видел те же пейзажи, что вдохновляли его.
Дмитрий Н. Смирнов: Наброски к автобиографии
(Музыкальный журнал Европейского Севера. № 1. 2015)
Последним сочинением, написанным на русско-советской земле, была «Песнь свободы» op. 59 (1991) — оратория на текст эпилога книги Уильяма Блейка «Бракосочетание Рая и Ада». Это был заказ Фестивального хора города Лидс, обеспечивший нам некоторую материальную поддержку на первых порах жизни в Англии.
Началась «перестройка», и нас стали пускать за границу. Я побывал в Англии, Польше, Германии, США и Южной Корее, узнавая мир, людей, наслаждаясь великолепными исполнениями своей и чужой музыки, а также непривычным ощущением свободы, но больше всего удивляясь нормальному человеческому отношению к своей персоне.
В лондонской галерее «Тэйт» или в филадельфийском Музее искусств я мог видеть картины, графические работы, рисунки и иллюстрации своего кумира Уильяма Блейка, а в Британском музее мне позволили полистать его оригинальные рукописи, книги, напечатанные и раскрашенные им вручную. Бродя по улицам Лондона, я находил места, где стояли дома, в которых он родился или жил, видел те же пейзажи, что вдохновляли его.
Дмитрий Н. Смирнов: Наброски к автобиографии
(Музыкальный журнал Европейского Севера. № 1. 2015)
К середине 1970‑х годов во Франции складывается группа композиторов, объединенных интересом к исследованию акустической и психоакустической природы звука, заложенной в строении его спектра. Наследники и, в некотором смысле, завершители французской традиции в аспекте объединения двух ее ветвей — sensus и ratio, empiricus и intellectivus — участники группы L’Itinéraire изначально позиционировали себя как приверженцы эстетики «искусства звуков», в противовес доминировавшей в музыкальном творчестве 1960‑х — начала 1970‑х логической парадигме, основанной на закономерностях серийного и сериального методов композиции.
Термин «спектральная музыка» (la musique spectrale) принадлежит французскому композитору и музыковеду Югу Дюфуру, в ряде теоретических работ обосновавшему концепцию нового направления и рассмотревшему спектральный метод в научно-историческом контексте. Идеи спектральной школы, представленной Ж. Гризе, Т. Мюраем, М. Левинасом, Ю. Дюфуром, Ф. Юрелем, очень быстро распространились за пределами Франции, став частью самых разных методик, фундированных связью с физическими и акустическими особенностями звука как прообразами параметров музыкального языка.
Спектральная музыка использует частотный звуковой спектр в качестве порождающей модели музыкальной формы, ее инварианта.
Термин «спектральная музыка» (la musique spectrale) принадлежит французскому композитору и музыковеду Югу Дюфуру, в ряде теоретических работ обосновавшему концепцию нового направления и рассмотревшему спектральный метод в научно-историческом контексте. Идеи спектральной школы, представленной Ж. Гризе, Т. Мюраем, М. Левинасом, Ю. Дюфуром, Ф. Юрелем, очень быстро распространились за пределами Франции, став частью самых разных методик, фундированных связью с физическими и акустическими особенностями звука как прообразами параметров музыкального языка.
Спектральная музыка использует частотный звуковой спектр в качестве порождающей модели музыкальной формы, ее инварианта.
Проецируясь на разные масштабные уровни формы, свойства звука реализуются в тембрике традиционного инструментария, становясь тем самым основой особого типа оркестрового звучания, в котором каждый из инструментов воспроизводит одну из гармоник взятого за основу спектра. Частоты спектра превращаются в элементы звуковысотной системы — в основе нового языка и новых музыкальных текстов лежат рационально осмысленные природные закономерности.
Одним из последовательных приверженцев спектрального метода является Тристан Мюрай, как и Гризе, трактующий строение звука в качестве модели структурирования музыкальной формы и одухотворяющих ее процессов. Модульная система композиции лежит в основе его сочинений, начиная с оркестрового «Sables» (1975) и «Mémoire/Érosion» для валторны и 9 инструментов (1976). Как и его коллеги по L’Itinéraire, Мюрай использует собственную технику композиции, во многом основанную на инструментальной имитации методов из области электронного синтеза тембров — частотной кольцевой модуляции, фильтрации, аддитивного и субтрактивного синтеза и др. В творчестве композитора интерференция электроакустических и акустических звучаний олицетворяет не конфронтацию, но, напротив, сплав, единство, формирующее целостный мир звуков.
Марианна Высоцкая, Галина Григорьева.
Музыка XX века: от авангарда к постмодерну
(М.: Московская консерватория, 2011)
Одним из последовательных приверженцев спектрального метода является Тристан Мюрай, как и Гризе, трактующий строение звука в качестве модели структурирования музыкальной формы и одухотворяющих ее процессов. Модульная система композиции лежит в основе его сочинений, начиная с оркестрового «Sables» (1975) и «Mémoire/Érosion» для валторны и 9 инструментов (1976). Как и его коллеги по L’Itinéraire, Мюрай использует собственную технику композиции, во многом основанную на инструментальной имитации методов из области электронного синтеза тембров — частотной кольцевой модуляции, фильтрации, аддитивного и субтрактивного синтеза и др. В творчестве композитора интерференция электроакустических и акустических звучаний олицетворяет не конфронтацию, но, напротив, сплав, единство, формирующее целостный мир звуков.
Марианна Высоцкая, Галина Григорьева.
Музыка XX века: от авангарда к постмодерну
(М.: Московская консерватория, 2011)
Пьеса, посвященная Владимиру Тонха; впервые исполнена Тонха и Рубином Абдуллиным. В этом произведении, чье название таит в себе символику креста (варианты перевода — «В кресте», «На кресте», «Крест-накрест»), Губайдулина сделала новый шаг, определивший ее творчество последующего времени. Композитор чисто музыкальным явлениям стала придавать символические значения. Концепцию «In croce» определяет символическая трактовка нескольких музыкальных элементов. Прежде всего — регистров. По ее словам, «обычное свойство музыкальных инструментов — обладать высоким, средним и низким регистром — используется так, что точка регистрового перекрещивания у двух инструментов — органа и виолончели — переживается… не только как геометрическое свойство, но и как символ креста». Символически трактуются гармонические элементы, способы звукоизвлечения, инструменты как таковые. Происходит «тематическое противопоставление экспрессивной хроматики светлому мажорному звучанию глиссандо на натуральных флажолетах. Два солирующих инструмента представляют собой два полюса этой непримиримой ситуации. В ходе звучания пьесы их роли перекрещиваются и меняются на противоположные».
В связи с символикой креста и серьезным интересом Губайдулиной к теологическим проблемам может сложиться впечатление, что содержание «In croce» определяется какой-либо религиозной идеей. История создания произведения свидетельствует скорее о пантеистическом импульсе к его возникновению. Эскизом к «In croce» послужило другое сочинение Губайдулиной, написанное в 1978 году, — «Звуки леса» для флейты и фортепиано. Сравнительно небольшая флейтовая пьеса построена на главной теме будущего «In croce», правда, звучащей в другой тональности — более светлой, звонкой по колориту.
В «Звуках леса» появились и торжественные трезвучия, в дальнейшем вошедшие в «In croce». Однако, наряду с тематизмом будущей виолончельно-органной пьесы, здесь присутствует и материал, отвечающий замыслу пейзажного произведения, воспроизводящий птичий щебет, отдаленное кукование кукушки. Тема, открывающая «In croce», вызывает иной поток ассоциаций. Заимствованная из «Звуков леса» трелеобразная мелодия, исполняемая на органе, если и навевает пейзажные представления, то скорее в духе образности библейского сюжета — отдых на пути в Египет. В отличие от «Звуков леса», где флейта и фортепиано функционально едины, в «In croce» у виолончели и органа разные драматургические функции, и «завязка» их конфронтации происходит почти в начале произведения.
В момент первого противостояния орган и виолончель контрастны в отношении регистра, гармонии, артикуляции, фактуры. Исходные музыкальные средства «In croce» можно представить в виде контраста «светлого и темного» (вспомним название губайдулинской органной пьесы 1976 года). После начального противостояния «персонажи» инструментальной драмы сближаются по характеру звучания: тема органа опускается на октаву вниз, делается более сумрачной; тема виолончели становится все более распевной, поднимаясь в верхний регистр.
В связи с символикой креста и серьезным интересом Губайдулиной к теологическим проблемам может сложиться впечатление, что содержание «In croce» определяется какой-либо религиозной идеей. История создания произведения свидетельствует скорее о пантеистическом импульсе к его возникновению. Эскизом к «In croce» послужило другое сочинение Губайдулиной, написанное в 1978 году, — «Звуки леса» для флейты и фортепиано. Сравнительно небольшая флейтовая пьеса построена на главной теме будущего «In croce», правда, звучащей в другой тональности — более светлой, звонкой по колориту.
В «Звуках леса» появились и торжественные трезвучия, в дальнейшем вошедшие в «In croce». Однако, наряду с тематизмом будущей виолончельно-органной пьесы, здесь присутствует и материал, отвечающий замыслу пейзажного произведения, воспроизводящий птичий щебет, отдаленное кукование кукушки. Тема, открывающая «In croce», вызывает иной поток ассоциаций. Заимствованная из «Звуков леса» трелеобразная мелодия, исполняемая на органе, если и навевает пейзажные представления, то скорее в духе образности библейского сюжета — отдых на пути в Египет. В отличие от «Звуков леса», где флейта и фортепиано функционально едины, в «In croce» у виолончели и органа разные драматургические функции, и «завязка» их конфронтации происходит почти в начале произведения.
В момент первого противостояния орган и виолончель контрастны в отношении регистра, гармонии, артикуляции, фактуры. Исходные музыкальные средства «In croce» можно представить в виде контраста «светлого и темного» (вспомним название губайдулинской органной пьесы 1976 года). После начального противостояния «персонажи» инструментальной драмы сближаются по характеру звучания: тема органа опускается на октаву вниз, делается более сумрачной; тема виолончели становится все более распевной, поднимаясь в верхний регистр.
Михаил Кулаков
Фигуры ангелов
Начало 1960-х
Бумага, масло. 44 × 31,7
Коллекция Музея AZ
Фигуры ангелов
Начало 1960-х
Бумага, масло. 44 × 31,7
Коллекция Музея AZ
Светлая партия органа, постепенно опускаясь в более низкий, становится матовой, тем не менее она сохраняет плавность артикуляции (legato) и континуальность фактуры. А сумрачная партия виолончели, постепенно переходя в высокий регистр и приобретая кантиленную широту, остается дискретной, ее фразы завершаются резкими, «агрессивными» обрывами.
После генеральной кульминации наступает чудесное преображение событий инструментальной драмы. Светлая трелеобразная тема снова звучит, как в начале, словно воскреснув, но проводится уже не у органа, а у виолончели. Звучание виолончели перешло как бы из земной в небесную сферу, в которой сияет флажолетное мажорное трезвучие A-dur. Особую красочность привносит заключительный прием — выключение мотора органа; масса звучания огромного инструмента становится хаотичной и постепенно угасает. Инструменты, участвующие в диалоге, обменялись почти всеми своими свойствами. Их объединила только неизменная континуальность фактуры — консонанс в «параметре экспрессии». Таким образом, круг замкнулся.
Валентина Холопова. София Губайдулина
(М.: Композитор, 2020)
После генеральной кульминации наступает чудесное преображение событий инструментальной драмы. Светлая трелеобразная тема снова звучит, как в начале, словно воскреснув, но проводится уже не у органа, а у виолончели. Звучание виолончели перешло как бы из земной в небесную сферу, в которой сияет флажолетное мажорное трезвучие A-dur. Особую красочность привносит заключительный прием — выключение мотора органа; масса звучания огромного инструмента становится хаотичной и постепенно угасает. Инструменты, участвующие в диалоге, обменялись почти всеми своими свойствами. Их объединила только неизменная континуальность фактуры — консонанс в «параметре экспрессии». Таким образом, круг замкнулся.
Валентина Холопова. София Губайдулина
(М.: Композитор, 2020)
Джордж Крам
(1929–2022)
(1929–2022)
«BLACK ANGELS. THIRTEEN IMAGES FROM THE DARK
LAND» («ЧЕРНЫЕ АНГЕЛЫ. 13 КАРТИН ТЕМНОЙ
ЗЕМЛИ») для электрического струнного квартета (1970)
LAND» («ЧЕРНЫЕ АНГЕЛЫ. 13 КАРТИН ТЕМНОЙ
ЗЕМЛИ») для электрического струнного квартета (1970)
Джордж Крам
(1929–2022)
(1929–2022)
«BLACK ANGELS. THIRTEEN IMAGES FROM THE DARK
LAND» («ЧЕРНЫЕ АНГЕЛЫ. 13 КАРТИН ТЕМНОЙ
ЗЕМЛИ») для электрического струнного квартета (1970)
LAND» («ЧЕРНЫЕ АНГЕЛЫ. 13 КАРТИН ТЕМНОЙ
ЗЕМЛИ») для электрического струнного квартета (1970)
Крам создает в 1960‑е свой стиль — характерный, легко узнаваемый и мало меняющийся впоследствии. Родители Крама были музыкантами, и домашнее музицирование на всю жизнь предопределило значимость для него классико-романтического репертуара. Важнейшие составляющие его словаря — цитаты и знаки европейского прошлого. Они соседствуют с символикой неевропейских культур. В связи с «Древними голосами детей» («Ancient Voices of Children», 1970) Крам объяснял свой метод желанием «смешать несовместимые стилистические элементы: фламенко и барочную цитату, реминисценцию из Малера — и дыхание Востока. Я понял, что и Бах, и Малер черпали образы из самых разных источников, без пуританской стилистической строгости».
Крам трактует эти элементы как вневременные символы; использует старую (в том числе графическую) музыкальную символику и создает новую. В его «музыке для глаз» нотоносцы пересекаются крест-накрест в «Козероге» («Capricorn») из фортепианного «Макрокосмоса» («Makrokosmos», 1972−1973), изображают двойную звезду в «Близнецах» («Gemini») и спиральную галактику в «Водолее» («Aquarius»). В «Пословицах» и «Древних голосах детей» нотные фрагменты расположены по кругу, символизируя бесконечность цикла жизни. Крам объяснял, что это также и самый действенный способ нотации moto perpetuo, использовавшийся в этих целях с XV века; он сбивает исполнительскую инерцию, позволяя не думать о соотношении партий по вертикали.
В «Черных ангелах» Крам создает аллегорию войны во Вьетнаме с помощью цитаты из квартета Шуберта «Смерть и девушка», в которой, в свою очередь, совмещены знаки двух эпох: романтизма и барокко. Ремарка гласит: «играть как консорт виол». Но играть при этом автор предписывает «вывернутой» техникой: смычок должен двигаться по грифу выше пальцев левой руки. Здесь же присутствует тритон, считающийся знаком дьявола в музыке.
Крам трактует эти элементы как вневременные символы; использует старую (в том числе графическую) музыкальную символику и создает новую. В его «музыке для глаз» нотоносцы пересекаются крест-накрест в «Козероге» («Capricorn») из фортепианного «Макрокосмоса» («Makrokosmos», 1972−1973), изображают двойную звезду в «Близнецах» («Gemini») и спиральную галактику в «Водолее» («Aquarius»). В «Пословицах» и «Древних голосах детей» нотные фрагменты расположены по кругу, символизируя бесконечность цикла жизни. Крам объяснял, что это также и самый действенный способ нотации moto perpetuo, использовавшийся в этих целях с XV века; он сбивает исполнительскую инерцию, позволяя не думать о соотношении партий по вертикали.
В «Черных ангелах» Крам создает аллегорию войны во Вьетнаме с помощью цитаты из квартета Шуберта «Смерть и девушка», в которой, в свою очередь, совмещены знаки двух эпох: романтизма и барокко. Ремарка гласит: «играть как консорт виол». Но играть при этом автор предписывает «вывернутой» техникой: смычок должен двигаться по грифу выше пальцев левой руки. Здесь же присутствует тритон, считающийся знаком дьявола в музыке.
Список сочинений Крама сравнительно невелик — около сорока произведений, в основном камерные. Большинство его вокальных сочинений написаны на тексты Федерико Гарсиа Лорки. Как и многих художников XX века, Крама привлекает миф, и прежде всего мифы космогонические. Воплощение мифа принимает у Крама характер сценического ритуала или инструментального театра. В «Голосе кита» исполнители надевают черные полумаски, сцена освещается голубым светом. В «Черных ангелах» инструменталисты носят маски, поют бессмысленные слоги и считают на разных языках, в «Пословицах» декламируют и поют.
Крам сделал тембр предметом своей главной заботы, так что, казалось бы, «внешнее» (тембровое одеяние) стало центральным, структурным элементом его языка. С тембрами Крам поступает так же, как с цитатами: соединяет на первый взгляд несоединимое и не подчеркивает разнонациональную природу инструментов: европейских, американских (банджо), восточных (тибетские молельные камни, японские храмовые гонги). В этой области Крам изобрел множество новых эффектов: в «Древних голосах детей» используются арфа с продернутой между струнами бумагой, «музыкальная» (или «поющая») пила (на ней играют смычком), настроенные молельные камни. В «Черных ангелах» автор предписывает играть трель пальцами в наперстках; в «Голосе кита» флейтист одновременно играет и поет «в флейту», а виолончелист имитирует крик чаек посредством глиссандо искусственных флажолетов.
Притягательность этого искусства была велика. В 1970—1980‑е Крам был одним из самых исполняемых американских композиторов второй половины века. Его музыкой увлекались хореографы (более полусотни постановок). Он оказался в той же парадоксальной категории, что и минималисты — в категории авангардной музыки, популярной у публики.
Ольга Манулкина. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010)
Крам сделал тембр предметом своей главной заботы, так что, казалось бы, «внешнее» (тембровое одеяние) стало центральным, структурным элементом его языка. С тембрами Крам поступает так же, как с цитатами: соединяет на первый взгляд несоединимое и не подчеркивает разнонациональную природу инструментов: европейских, американских (банджо), восточных (тибетские молельные камни, японские храмовые гонги). В этой области Крам изобрел множество новых эффектов: в «Древних голосах детей» используются арфа с продернутой между струнами бумагой, «музыкальная» (или «поющая») пила (на ней играют смычком), настроенные молельные камни. В «Черных ангелах» автор предписывает играть трель пальцами в наперстках; в «Голосе кита» флейтист одновременно играет и поет «в флейту», а виолончелист имитирует крик чаек посредством глиссандо искусственных флажолетов.
Притягательность этого искусства была велика. В 1970—1980‑е Крам был одним из самых исполняемых американских композиторов второй половины века. Его музыкой увлекались хореографы (более полусотни постановок). Он оказался в той же парадоксальной категории, что и минималисты — в категории авангардной музыки, популярной у публики.
Ольга Манулкина. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010)
ИСПОЛНИТЕЛИ
Художественный руководитель Виктория Коршунова
Московский ансамбль современной музыки | МАСМ

Основан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при поддержке лидера новой отечественной музыки, классика ХХ столетия Эдисона Денисова. МАСМ одним из первых начал исполнять за рубежом новейшую российскую музыку, а в России — творчество современных зарубежных авторов. Сегодня базовая структура МАСМ — квинтет (флейта, кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано), при этом состав часто расширяется до большого ансамбля и камерного оркестра. Основная задача коллектива — представление актуального творчества российских и зарубежных композиторов: на счету МАСМ более 1000 российских и мировых премьер. Особое место в репертуаре ансамбля занимает русский музыкальный авангард ХХ века. По приглашению МАСМ в Россию приезжали выдающиеся композиторы, среди которых Янис Ксенакис, Дьёрдь Куртаг, Анатоль Виеру, Фредерик Ржевский, Луи Андриссен, Тео Лувенди, Жерар Цинстаг и другие.
Ансамбль записал более 50 CD, выпущенных ведущими лейблами России, Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии. Гастролировал в 80 российских городах и 28 странах мира, выступал на крупнейших фестивалях, таких как «Другое пространство» (Москва), Московская биеннале современного искусства, Дягилевский фестиваль (Пермь), «Варшавская осень» (Польша), Gaudeamus Music Week (Нидерланды), FrankfurtFest, Maerzmusic (Германия), Klangspuren (Австрия), Transart (Италия). Участвовал в создании ряда значительных проектов: «Машина» в МХТ (режиссер Кирилл Серебренников), «Реконструкция» в Школе драматического искусства (Москва) и Эрмитажном театре (Санкт-Петербург), «Цвет-символ-звук» в ММДМ, «Москва» в Cité de la musique (Париж), оперный сериал «Сверлийцы» в Электротеатре Станиславский.
Ансамбль записал более 50 CD, выпущенных ведущими лейблами России, Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии. Гастролировал в 80 российских городах и 28 странах мира, выступал на крупнейших фестивалях, таких как «Другое пространство» (Москва), Московская биеннале современного искусства, Дягилевский фестиваль (Пермь), «Варшавская осень» (Польша), Gaudeamus Music Week (Нидерланды), FrankfurtFest, Maerzmusic (Германия), Klangspuren (Австрия), Transart (Италия). Участвовал в создании ряда значительных проектов: «Машина» в МХТ (режиссер Кирилл Серебренников), «Реконструкция» в Школе драматического искусства (Москва) и Эрмитажном театре (Санкт-Петербург), «Цвет-символ-звук» в ММДМ, «Москва» в Cité de la musique (Париж), оперный сериал «Сверлийцы» в Электротеатре Станиславский.

Виктория Коршунова
Художественный руководитель
Московский ансамбль
современной музыки | МАСМ
современной музыки | МАСМ
Важное направление деятельности коллектива — просветительские концерты-лекции и мастер-классы, которые проходят по всей России. МАСМ — инициатор уникального ежегодного проекта: Международной академии молодых композиторов в Чайковском (Пермский край), где по приглашению ансамбля преподают Беат Фуррер, Оскар Бьянки, Марк Андре, Клаус Ланг, Филипп Леру и другие композиторы с международной известностью. В 2018—2022 при участии МАСМ проходили «Композиторские читки» Союза композиторов России — четырехдневный интенсив, в ходе которого молодые композиторы показывают свои сочинения опытным музыкантам и получают профессиональные наставления.
МАСМ входит в Международное общество современной музыки (ISCM, 2005). В 2013 году спектакль «Полнолуние» с участием МАСМ получил премию «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». В 2021 году МАСМ стал лауреатом Московской Арт Премии, в 2022 году — лауреатом Грантов Мэра Москвы. Ежегодно дает более 70 концертов в России и за рубежом.
МАСМ входит в Международное общество современной музыки (ISCM, 2005). В 2013 году спектакль «Полнолуние» с участием МАСМ получил премию «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». В 2021 году МАСМ стал лауреатом Московской Арт Премии, в 2022 году — лауреатом Грантов Мэра Москвы. Ежегодно дает более 70 концертов в России и за рубежом.
Константин Ефимов (флейта)
Олег Танцов (кларнет)
Михаил Дубов (фортепиано)
Иосиф Пуриц (баян)
Евгений Субботин (скрипка)
Ася Соршнева (скрипка)
Ирина Сопова (альт)
Ольга Демина (виолончель)
Олег Танцов (кларнет)
Михаил Дубов (фортепиано)
Иосиф Пуриц (баян)
Евгений Субботин (скрипка)
Ася Соршнева (скрипка)
Ирина Сопова (альт)
Ольга Демина (виолончель)